- 28.11.2018 Готовится к печати 31 номер журнала "Вопросы национализма"...
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 30 "Вопросов национализма" - Столетие русской катастрофы....
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 29 "Вопросов национализма" - РУССКАЯ НАЦИЯ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ...
- 29.11.2016 Вышел в свет Вышел в свет и уже продаётся в "Фаланстере" № 27 "Вопросов Национализма". ...
- 09.09.2014 Подписан в печать № 19 "Вопросов национализма"
- 08.07.2014 Поступил в продажу журнал № 18 "Вопросы национализма"
- 14.04.2014 17-й номер журнала "Вопросы национализма"
- 27.11.2013 Подписан в печать № 16 "Вопросов национализма"
- 19.11.2013 Доступна электронная версия ВН №15
- 25.09.2013 33 вопроса к Национально-демократической партии Германии...
Русский народ сегодня: правда против иллюзий
В соответствии с этими воззрениями, отличительными чертами русского народа считались: глубокий монархизм и приверженность сильной и персонифицированной власти, имеющей сакральную природу; столь же глубокая православная религиозность; общинность (коллективизм). Русский народ в их интерпретации выступал главной опорой и движущей силой имперской государственности, а сама эта государственность оказывалась отражением его характера и глубинных устремлений. Несомненно, в этих воззрениях была доля истины, свидетельством чему является сам феноменальный успех Российской империи как государства.
С другой стороны, это была лишь одна сторона монеты, и если бы дело только ей и ограничивалось, мы, скорее всего, до сих пор жили бы под властью государя императора. На деле, отношения между русским народом и имперской государственностью были куда сложнее и противоречивее. Нельзя упускать из виду и то, что вопрос первичности и вторичности в соотношении имперской государственности и «славянофильских» ценностей остается во многом открытым – так, не вызывает сомнения, что приверженность православию подкреплялась мощью государственного репрессивного аппарата; в свою очередь, и столь любимый славянофилами и черносотенцами институт крестьянской общины (по крайней мере, на последнем этапе своего существования) искусственно поддерживался и насаждался тем же государством, из чисто фискальных соображений. Оставляя в стороне этот сложный вопрос, мы не можем не указать на то, что сама история поставила жирный и наглядный знак вопроса над теми взглядами на природу и психологию русского народа, которые исповедовали националисты-черносотенцы. Всего через несколько лет после того, как черносотенное движение прошло свой апогей, тот самый русский народ с готовностью, лихо и весело принялся крушить кувалдой весь тот традиционный миропорядок, который, по мысли традиционалистов, должен был быть ему дороже жизни. Никакие враждебные «чуждые влияния» не способны адекватно объяснить размах и успех развернувшегося действа. Остервенелость идет от души. По сути, русский народ на рубеже 1920-х годов недвусмысленно выразил свое глубинное отношение к имперской государственности старого образца. Другое дело, что взамен ему был предложен вариант, оказавшийся на поверку куда большим злом – но это уже предмет совсем другого разговора.
Что хочется обсудить здесь, и к чему, на взгляд автора, жизненно необходимо привлечь внимание – это те мощнейшие, фундаментальные изменения, которые потрясения и национальные травмы ХХ в. повлекли в сознании русского народа. Потому что если применительно к русским начала ХХ в. еще можно спорить о степени соответствия реальности славянофильско-черносотенских представлений о народной психологии и устремлениях, применительно к современным русским спорить об этом уже не приходится. Психологически – это во многом два разных народа. Увы, немалая часть современного русского националистического движения, подпавшая под очарование националистических интеллектуалов начала ХХ в. (среди которых, надо отдать им должное, были яркие и незаурядные мыслители), этого не видит и не хочет понимать, обрекая себя на маргинальную роль на современной политической сцене.
Итак, давайте посмотрим, чем современные русские отличаются от русских в представлении правомонархических теоретиков столетней давности (вопрос о соответствии представлений этих теоретиков реалиям даже их собственного времени оставим за кадром). Для этого пройдемся по тем предполагаемым основным чертам русского национального мировоззрения, которые выделяли старые националисты и которые вслед за ними поднимают на щит их современные последователи.
1. Приверженность монархической (шире – автократической) государственности, сакрализация власти, потребность в ее персонификации. В современном выражении, по мысли националистов-державников, это должно найти свое логическое выражение в потребности в жесткой центральной власти, в «сильной руке» - будь то выраженной в терминах традиционного имперского монархизма, советского вождизма (например, сталинизма) или в смягченной и припудренной форме нынешней «суверенной демократии» и «вертикали власти». Но так ли это?
Факты свидетельствуют совсем о другом. Данные социологических опросов, проводившихся в последние годы, демонстрируют, что в современной России однозначно торжествуют демократические настроения – причем демократические не в смысле поддержки существующего режима (который в глазах основной массы населения никаким демократическим не является). Демократия в глазах современных русских – это еще не свершившийся факт, а скорее идеал, к которому страна должна стремиться. Признавая рациональную необходимость достаточно сильной президентской власти (обусловленной хотя бы размерами страны и сложностью государственного устройства), большинство русских, тем не менее, считает имеющиеся полномочия президента излишними, а степень концентрации власти в его руках – чрезмерной. Слово «авторитарный» вызывает у большей части населения устойчивые негативные ассоциации.
Сторонники «сильной руки» в обществе, конечно, есть, но они в основном вытеснены на периферию политического спектра и не имеют шансов на привлечение массовой поддержки. Наиболее маргинальными из всех являются как раз традиционные монархисты – нельзя сказать, чтобы их идеи вызывали у народа антагонизм, скорее – они не вызывают вообще никаких эмоций, проходят мимо сознания и параллельно ему. В общем и целом, монархия для среднестатистического русского сегодня – это что-то далекое и экзотическое, совершенно не ассоциирующееся с Россией, предмет туристического интереса и добродушной усмешки, но никак не трепета и благоговения. Диктатура же – что-то очень негативное и нежелательное, вызывающее смех и иронию (как Северная Корея) или неприязнь и отторжение (как ближневосточные режимы вроде покойного Саддама Хуссейна). Она не ассоциируется ни с эффективностью, ни с благополучием.
То же самое сполна относится и к империи. Какая империя, о чем вы? Большинство русских сейчас не хочет «возвращения в лоно» даже Украины и Белоруссии, и обсуждает гипотетическую возможность отделения Кавказа без какого-либо суеверного ужаса. Не все поддерживают данную идею – но в основном по чисто прагматическим соображениям. Романтический и самоценный ореол «великой империи» утрачен и не вызывает ностальгии.
2. Православие. Для многих следующее утверждение может показаться в первый момент странным – но факт от этого не перестанет быть фактом. Традиционное православие как фактор общественной жизни, в том виде, в каком оно существовало в России 100 лет назад, в России нынешней мертво. Как же так, воскликнет удивленный читатель, а как же влиятельная и материально крепко стоящая на ногах церковь, а как же то религиозное возрождение, которое мы могли наблюдать все последние 20 лет? Все это имеет место. Но при этом совершенно не отменяет сказанного выше.
Традиционное православие, являвшееся одним из идеологических и институциональных столпов старой Российской империи, было разрушено и выкорчевано в 1920-е и 1930-е годы – причем не только из материальной культуры и общественной жизни (что само по себе было бы поправимо), но и – что гораздо важнее – из индивидуального сознания. Успех этого грандиозного мероприятия лишний раз демонстрирует, что разрушением и корчеванием занимались не какие-то тираны-инородцы или агенты мировой закулисы, а сам что ни на есть русский народ, со свойственной ему энергией и радикализмом. Это можно расценивать по-разному – как вытеснение старой идеологической базы новыми идеями, вызвавшими массовый энтузиазм, граничащий с психозом, как «отложенную месть языческой Руси» (В.Д. Соловей), или как свидетельство того, что православие на деле никогда и не было глубоко укоренившейся народной идеологией. Возможно и сочетание этих факторов. В любом случае, «возрождение», которое началось в последние годы существования советского режима, происходило в буквальном смысле слова с нуля.
Происходило оно по двум направлениям, совершенно независимым и параллельным друг другу (что уже говорит о многом, т.к. в здоровой и гармоничной религиозной общине эти явления, вообще-то, составляют единый и нераздельный процесс). Первым было восстановление и последующее укрепление церковных институтов. В условиях олигархического государства-корпорации церковь неизбежно обречена была превратиться в еще одну «аффилированную» с государством экономико-политическую структуру, вроде какого-нибудь «Газпрома». Это и произошло. Одновременно с этим в обществе шел процесс, который можно охарактеризовать как «становление моды на православие». Он не слишком стимулировался какой-то целенаправленной деятельностью со стороны церкви – скорее, церковь выполняла роль догоняющего, впопыхах выполняя общественный заказ.
Но на что был этот заказ? Мы уже говорили, что разрушение православия в ранние годы советской власти было сопряжено с замещением его новой идеологией и системой ценностей. Да, во многом, несовершенной и убогой, но функции свои она выполняла, давая людям какие-никакие ответы на основные вопросы бытия. С крушением советской системы погибло и это мировоззрение. Пустота в сознании людей нуждалась в заполнении. Вполне логично, что люди массово обратились к религии. Логично и то, что эту религию они стали преимущественно облекать в «православную» внешнюю оболочку. Вот только – что таится за этой оболочкой? Во что реально верит львиная доля современных русских верующих (кстати, не подвергаю ни малейшему сомнению их искренность), называющих себя «православными»?
На поверку, эта система представлений имеет мало общего с постулатами традиционного православия, и скорее всего, не была бы признана православной ни одним из церковных иерархов столетней давности. Почти все новые верующие независимо друг от друга провозглашают одни и те же принципы: взаимоотношения человека с Богом есть сугубо личное дело, не нуждающееся в каких бы то ни было посредниках; искренность личной веры гораздо важнее, чем соблюдение конкретных заповедей, или тем более – канонов обрядности (которых большинство и не знает, и не проявляет особого интереса); нет никакой принципиальной разницы, где и как молиться, храмы всех христианских конфессий посещаются с одинаковым успехом (причем не по осознанному распорядку, а просто как внутренняя потребность возникнет); при этом западная церковная обрядность и убранство нередко оцениваются выше православной, в которой не нравится чрезмерная пышность и сложность. В богословские тонкости не вникает практически никто (а под «тонкостью» в данном случае надо понимать все чуть более сложное, чем текст молитвы «Отче наш»). Что больше всего напоминает данная система воззрений? Уж точно не традиционное православие. По сути, большая часть современных русских верующих христиан исповедует латентный, самими ими неосознанный протестантизм. Не оформившийся, не сформулированный доктринально – но, тем не менее, вполне жизнеспособный и выполняющий те функции, которые и призвана выполнять религия в обществе – дающий людям опору, силу и надежду. Вот только ориентирован он на совершенно иные ценности – индивидуализм, самостоятельность, практичность и прагматизм, личную ответственность за свои действия.
3. Что и подводит нас к последней ключевой составляющей традиционного представления о русской национальной психологии – «общинности», или, если выражаться современным языком, коллективизму. С ним все совсем просто.
Сейчас немалая часть наших соотечественников регулярно бывает за рубежом. Конечно же, такие есть и среди уважаемых читателей. Проведем нехитрый тест. Прошу всех, у кого был такой опыт, вспомнить следующую ситуацию. Вы – за границей. Находитесь где-нибудь в публичном месте, среди иностранцев. Внезапно до Вашего уха доносится русская речь где-то поблизости. Обернувшись, Вы замечаете группу явных соплеменников, о чем-то оживленно беседующих в сторонке. Вас они не видят, или, во всяком случае, русского в Вас не узнают. Каковы будут Ваши действия?
Так вот. В 80% случаев русский человек в такой ситуации отворачивается и спешно ретируется, стремясь затеряться в толпе. Если он говорил – умолкает, а то и переходит на иностранный язык. Он всячески стремится избежать контакта со своими! Редкие исключения обычно обусловлены какими-то посторонними факторами – либо ему самому требуется помощь, либо он узнает кого-то в лицо, либо, например, хочет познакомиться с понравившимся субъектом противоположного пола. Но почти никогда поводом для контакта не будет простой факт русскоязычности оппонента. Для сравнения – обратите внимание, как себя в такой ситуации поведет, например, немец. Вы можете быть уверены на те же самые 80%, что услышав родную речь, например, за другим столиком в кафе, немец, как минимум – подойдет и познакомится. Часто – пригласит за свой стол или сам присоединится к компании. Во всяком случае, контакт будет более, чем вероятен.
То же самое, кстати, сполна относится к хваленым качествам русской доброты, отзывчивости, взаимовыручки. В Германии, Франции и особенно в Америке шансов того, что незнакомому человеку, выглядящему потерявшимся или сильно расстроенным, будет предложена помощь, на порядок больше, чем в России. «Вы заблудились? Вам помочь?» - нормальный вопрос, который следует с большой вероятностью ожидать от совершенно незнакомого прохожего на улицах, например, Нью-Йорка или Парижа, если Вы чуть дольше обычного будете рассматривать уличные указатели, или просто достанете карту. Вспомните, когда Вы в последний раз слышали его в Москве. Если слышали.
Господа, хватит строить иллюзии. Мы не коллективисты. Мы абсолютные, болезненные индивидуалисты. Наш индивидуализм обострен почти до извращенности. Он бросается в глаза на фоне куда более мягкого индивидуализма западноевропейцев, которых мы привыкли обвинять в эгоизме и замкнутости. Нас перекормили коллективизмом настолько, что вызвали обратную реакцию – отторжение, практически аллергию. Что, кстати, наводит невольно на мысль, что для русского народа коллективизм и «общинность» никогда и не были органично свойственны. Тем, что у тебя в крови, перекормить невозможно. Можно – лишь тем, что тебе навязывают извне.
В общем и целом, не вызывает сомнений, что большевики преуспели там, где не справилась за вдвое больший промежуток времени послепетровская романовская империя. Они вестернизировали русский народ с головы до пят, от элиты до самых низов, идеологически и психологически. Более чем. Во многом, русские стали, по известному французскому выражению,plusroyalistesqueleRoi– т.е. в нашем случае, «большими европейцами, чем сами европейцы». Отчасти это делалось осознанно (марксизм, в конце концов, тоже западная идеология, подразумевающая соответствующий образ мыслей), отчасти – происходило вопреки им, по принципу «от противного» - как с коллективизмом. Можно лишь гадать, были ли новые ценности привиты народу насильственно или же просто всплыли на поверхность из глубин национального «коллективного бессознательного» после слома мешавших этому наслоений (в конце концов, биологически ведь русские даже на пике культурной изоляции не прекращали быть частью индоевропейской семьи народов, породившей западную цивилизацию).
В данный момент это уже не имеет принципиального значения, потому что бесспорно одно – эти ценности прижились. И сейчас именно они формируют лицо поднимающейся русской политической нации. Они, а не черносотенная мифология столетней давности, ценность которой была сомнительна еще во времена ее расцвета. И любому, кто предполагает в этих условиях заниматься политикой, необходимо это учитывать и из этого исходить, адаптируя свои взгляды к реальности, а не пытаясь подогнать реальность под свои взгляды.
В конце концов, нация никому и ничего не должна. Она такая, какая она есть, и другой у нас не будет.
Антон Попов
Источник
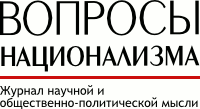





 ПавловскийГлеб
ПавловскийГлеб
 СвятенковПавел
СвятенковПавел
 СоловейВалерий
СоловейВалерий
 ЕлисеевАлександр
ЕлисеевАлександр
 ГалкинаЕлена
ГалкинаЕлена
 НеменскийОлег
НеменскийОлег
 ХолмогоровЕгор
ХолмогоровЕгор
 ХолмогороваНаталия
ХолмогороваНаталия
 СошинЮрий
СошинЮрий
 ГорянинАлександр
ГорянинАлександр


