- 28.11.2018 Готовится к печати 31 номер журнала "Вопросы национализма"...
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 30 "Вопросов национализма" - Столетие русской катастрофы....
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 29 "Вопросов национализма" - РУССКАЯ НАЦИЯ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ...
- 29.11.2016 Вышел в свет Вышел в свет и уже продаётся в "Фаланстере" № 27 "Вопросов Национализма". ...
- 09.09.2014 Подписан в печать № 19 "Вопросов национализма"
- 08.07.2014 Поступил в продажу журнал № 18 "Вопросы национализма"
- 14.04.2014 17-й номер журнала "Вопросы национализма"
- 27.11.2013 Подписан в печать № 16 "Вопросов национализма"
- 19.11.2013 Доступна электронная версия ВН №15
- 25.09.2013 33 вопроса к Национально-демократической партии Германии...
Сергей Сергеев: «Наиболее русский человек»
Сразу же после его смерти Достоевский написал в своём журнале «Эпоха», где Григорьев был ведущим критиком: «Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура», оговорившись, правда: «не … как идеал; это разумеется».
Отражение некоторых черт личности Григорьева в таких знаковых персонажах русской классики как Митя Карамазов и Федя Протасов в данном отношении тоже весьма характерно.
Разумеется, такой человек не мог не быть русским националистом.
Национализм Григорьева – вещь настолько очевидная, что не заметить его нельзя (само слово он, правда, употреблял редко, но оно в ту пору и вообще редко употреблялось). Но своеобразие этого национализма совсем не в том, в чём его обычно видят.
Конечно же, не в детски-восторженной любви к своему , потому что оно своё , и порождаемыми этой любовью «ксенофобскими» или «шовинистическими» репликами, нередко выкрикнутыми под шафе:
«Для нас и [русский] жулик получше любого заморского чухонца»; «Шекспир настолько великий гений, что может стать уже по плечо русскому человеку»; «люди…право же, все гнусны, кроме славян»; «глубоко сочувствуя … всему разноплеменному славянскому, мы убеждены только в особенном превосходстве начала великорусского пред прочими и, следственно, здесь более исключительны … исключительны даже до некоторой подозрительности, особенно к началам ляхитскому и хохлацкому»; Гоголь - «чисто хохлацкая натура», а потому и «великий ненавистник великорусского начала и племени» и т.д. - Сказано ярко, но чувство здесь явно преобладают над мыслью.
Совершенно новым было, например, то, что Григорьев в отличие не только от западников, но и от славянофилов, и предвосхищая Данилевского, радикально отказывался от понятия «человечества», « которого, в сущности, нет, ибо есть организмы растущие, стареющиеся, перерождающиеся, но вечные: народы ».
Но это новое вытекало из более общей установки мыслителя, символом веры которого было поклонение «жизни, а не теории, типам и народностям, а не отвлеченному мундирному единству», а, следовательно, свободе, а не несвободе .
«Человечество» именно тем ненавистно Григорьеву, что оно «абстрактное чудовище», требующее «жертв никак не менее древнего Ваала». Этой унифицирующей абстракции «жертвуется всем народным, местным, органическим». Т.е. это один из уровней (самый высокий) насильственной, деспотической, «мундирной» несвободы, стремящейся свести всё разнообразие жизни к одному сухому знаменателю. Но есть и другие уровни – пониже, но не менее – а гораздо более – «мундирные».
В отличие от своих консервативных последователей вроде Константина Леонтьева, клявшегося именем отца-основателя «почвенничества», но ревизовавшего его наследие до неузнаваемости, Григорьев не ограничивался манифестацией свободы лишь «межцивилизационной», он полагал, что и во внутренней своей жизни народы должны быть свободны. Ибо народ многосоставен, в нём существуют различные «типы», «веяния», наконец, «личности», которые своим свободным взаимодействием только и творят народную жизнь. (Леонтьев тоже ратовал за разнообразие, но – парадоксально -- посредством деспотизма).
Всё иное – «теория», а стало быть «деспотизм», «мундир», будь то «казармы» « незабвенного императора Николая Павловича»; «формализм государственный и общественный», ведущий к уничтожению «народностей, цветов и звуков жизни» у западников; «социальная блуза» и «фаланстер» социалистов -- « в сущности, это одно и то же ».
В тот же «мундирный» список попало и славянофильство, которому, Григорьев, разумеется, отдавал должное и всегда с почтением произносил имена Киреевского и Хомякова. Но и у них он видел господство теории над жизнью и даже находил в их учении «социализм»:
«Славянофильство … как и западничество, не брало народ, каким он является в жизни, а искало в нем всегда своего идеального народа, обрезывало по условной мерке побеги этой громадной растительной жизни. Своего, идеального народа оно отыскивало только в допетровском быту и в степях, которых не коснулась еще до сих пор реформа. … Славянофильство подвергает народное обрезанию и холощению во имя узкого, условного, почти пуританского идеала».
Характерно одно из самых главных разногласие Григорьева со славянофилами:
«Убежденные …, что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, - в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковыми исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь, с ее дурным и хорошим, с ее самобытностью и, пожалуй, с ее подражательностью … Славянофильство видит народное начало только в одном крестьянстве (потому что оно у них связывается с старым боярством), совсем не признавая бытия чисто великорусской промышленной стороны России».
Основой нации, по Григорьеву, идущему здесь след в след классическому европейскому национализму, может быть только «средний класс», купечество -- русское «бюргерство», потому что нация может вырасти только из свободного социального слоя. Крестьянство же, превозносимое славянофилами, – крепостное ли, государственно ли -- таким свободным слоем не было.
Странно, но факт: «последнего романтика» совершенно явственно тянет к такой неромантической вещи как «средний класс», вообще к середине! Но логика понятна: дворянство свободно, но только благодаря крепостному праву, его изуродовавшему и сделавшему неспособным к национальному лидерству, к тому же, оно слишком «оевропеилось»; крестьянство, в силу своей структурной несвободы, пусть и подавляющее большинство русских, но «своего слова» не несёт, оно, в конечно счёте будет подражать тем, кто выше по социальной лестнице, тем, кто свободнее. А купечество (не будем здесь обсуждать правоту этого взгляда, история по нему уже вынесла приговор) – и свободно, и национально-самобытно, и уже искушено «европеизмом».
Итак, «и славянофильство, и западничество суть продукты головные, рефлективные», а «правда», отстаиваемая Григорьевым -- «порождение жизни». И с невероятно горделивой претензией он формулирует своё и своих единомышленников кредо: « Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы – народ ».
А народ как «живой организм» не есть что-то застывшее, статичное, он « старый и новый вместе ».
«Поэтому-то олицетворением русскости для Григорьева в итоге станет Пушкин («наше всё», -- кстати, именно григорьевская формула), который «и есть наша такая, на первый раз очерком, но полно и цельно обозначившаяся душевная физиономия, физиономия, выделившаяся, вырезавшаяся уже ясно из круга других народных, типовых физиономий, -- обособившаяся сознательно именно вследствие того, что уже вступила в круг их. Это -- наш самобытный тип, уже мерявшийся с другими, европейскими типами, проходивший сознанием те фазисы развития, которые они проходили, но боровшийся с ними сознанием, но вынесший из этого процесса свою физиологическую, типовую самостоятельность».
В поисках определения русскости Григорьев пришёл к выводу, что она не может быть выражена каким-то одним началом, что, как минимум, она дуалистична:
«Народное наше, типическое – не есть одно только старое, но и старое и новое – или лучше та двойственность, которая всюду у нас проглядывает в старом и новом (князья дружинники и охранники и князья промышленники-вотчинники, -- святость Ильи Муромца и ёрничество Алеши Поповича, -- земледельческое население и купеческое, -- покорность семейному началу в одной песне и загул в отношении к этому началу в другой и проч., и проч., и проч.)».
Этот русский дуализм критик сформулировал в результате как сосуществование в рамках одного народа двух основных типов: «смирного» (пассивного) и «хищного» (активного). Высоко оценивая «смирный» тип (фундамент народной жизни) Аполлон Александрович не принимал его абсолютизации, свойственной славянофилам и Толстому и позднее ставшей господствующим описанием русского характера вплоть до наших дней. Без активного, иногда даже бунтарского начала народ развиваться не может:
«…мы были бы народ весьма не щедро наделенный природою, если бы героями нашими были Иван Петрович Белкин и Максим Максимыч. … Максим Максимыч и капитан Толстого, конечно, люди очень честные и без всякой похвальбы храбрые … -- но ведь согласитесь, что с ними немыслима никакая история . Из них не выйдут, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдут и Минины. Увы! на одних добрых и смирных людях … - далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна ».
В отличие от позднейших «почвенников» родоначальник этого направления, особенно в последние годы жизни, отстаивал огромную важность героического и вообще личностного начала в русской жизни: «Мысль об уничтожении личности общностью в нашей русской душе – есть именнослабаясторона славянофильства».
Характерна его апология Чацкого как «нашего единственного героя»,«единственно положительно борющегося в той среде, куда судьба и страсть его бросили», как «товарища людей вечной памяти двенадцатого года, могущественной, еще глубоко верящей в себя и потому упрямой силы, готовой погибнуть в столкновении с средою, погибнуть хоть бы из-за того, чтобы оставить по себе "страницу в истории"».
Здесь очевиден прозрачный намёк на декабристов.
Политическим революционером Григорьев, конечно же, не был. Но ощущение неразрывной связи нации и свободы – ключевого у декабристов – и ему в полной мере было свойственно. Как и они, он разделял культ домонгольской, «вечевой», свободной Руси.
Для Григорьева гибель вечевых, демократических устоев Киевской Руси – национальная трагедия. Но прошлое в григорьевском мировоззрении никогда не исчезает бесследно, вспомним, его народ «вечно старый и новый вместе» и потому «коренной русский человек остался все такой же, какой он был во времена Мстиславов – стоятелей за вольную жизнь старой Руси».
Так что вечевое начало тоже не умерло и способно в новом обличии воскреснуть.
Национализм Григорьева носил ярко выраженный демократический характер, он сам собственно определял своё направление как « народность демократическую и прогрессивную », нация и свобода были для него вещами нераздельными. Но трагедия григорьевского национализма состояла в том, что в последекабристский период эти понятия в русской политической мысли соединялись с трудом и чем дальше, тем больше расходились на противоположные концепции – несвободной нации и безнациональной свободы.
Почему так случилось – долгий разговор, но одно сразу бросается в глаза: блистательное отсутствие того самого «свободного среднего класса», который Григорьев, романтически выдавая желаемое за действительное, увидел в купцах Островского. Личный жизненный срыв неистового Аполлона – жизненная неустроенность, запои, долги и долговые тюрьмы, ранняя смерть в 42 года -- кроме всего прочего, ещё и от этого: на самом-то деле его общественно-политические идеалы более чем умеренны, он просто хотел европейской нормы, но в русском оригинальном обличии. Но именно путь нормы в России всегда был (и остаётся) самым сложным, удававшимся только исключительным по волевым качествам и хладнокровию натурам. «Последний романтик» был для него слишком хрупок…
Но его интуиции, неприменимые к той эпохе, могут заиграть новым светом сегодня. Как современно звучит, например -- «чувство патриотизма, очищенное от татарщины или китаизма, чувство простое и искреннее, без апофеозы кулака и бараньего смирения», или - «идеалы самобытного народного протеста». Не говорю уж о «свободном среднем сословии» и «нашем федеративном будущем»…
Но самое главное -- «григорьевский канон» для любого честного русского мыслителя: «чувство живого в жизни, любовь к жизни в жизни – и отвращение ко всякой мертвечине…».
Сергей Сергеев
Источник
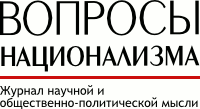





 НеменскийОлег
НеменскийОлег
 СошинЮрий
СошинЮрий
 ПавловскийГлеб
ПавловскийГлеб
 ХрамовАлександр
ХрамовАлександр
 ХолмогоровЕгор
ХолмогоровЕгор
 БенедиктовКирилл
БенедиктовКирилл
 СвятенковПавел
СвятенковПавел
 ЕлисеевАлександр
ЕлисеевАлександр
 ЧудиноваЕлена
ЧудиноваЕлена
 ГорянинАлександр
ГорянинАлександр


