- 28.11.2018 Готовится к печати 31 номер журнала "Вопросы национализма"...
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 30 "Вопросов национализма" - Столетие русской катастрофы....
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 29 "Вопросов национализма" - РУССКАЯ НАЦИЯ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ...
- 29.11.2016 Вышел в свет Вышел в свет и уже продаётся в "Фаланстере" № 27 "Вопросов Национализма". ...
- 09.09.2014 Подписан в печать № 19 "Вопросов национализма"
- 08.07.2014 Поступил в продажу журнал № 18 "Вопросы национализма"
- 14.04.2014 17-й номер журнала "Вопросы национализма"
- 27.11.2013 Подписан в печать № 16 "Вопросов национализма"
- 19.11.2013 Доступна электронная версия ВН №15
- 25.09.2013 33 вопроса к Национально-демократической партии Германии...
Лев Пирогов: На графских развалинах
Вам никогда не казалось странным, что в известных стихах: «Темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа», - она встречает именно у входа, а не у выхода? Вроде бы, логичней у выхода – из темницы...
Когда меня радостно встречают у входа, почему-то вдруг вспоминается, что выход-то всегда ценнее, чем вход: «Вход – рубль, выход – два», «Вход свободный – выход вперёд ногами», - и так далее, тому подобное.
Выходит, если рифма не врёт, свобода – это такая штука, от которой весьма непросто избавиться.
* * *
Если нас что-то раздражает, значит, мы чего-то не понимаем. Если мы чего-то не понимаем – это что-то кажется нам ненужным и раздражает своей ненужностью. Первая реакция – выкинуть.
Это называется решительностью.
Решительным быть красиво:
«Забодали меня русские писатели рассуждать про свободу. Я понимаю, когда какая-нибудь язычница на эту тему верещит. А когда мужчина-монотеист об этом говорит, я не понимаю. Свобода кончается там, где начинаются десять заповедей. Ты мужчина, ты человек. Ты здесь для того, чтобы страдать и умирать. Никакой свободы тут не предвидится. Свобода бывает только у девочек. Потому что они хотят новое платье и шоколадку. Им можно. А тебе – нет».
Это красиво. «Страдать и умирать». Как Овод.
Русские писатели, правда, романтических концепций не разделяли. Редкие сполохи романтизма в русской литературе обычно бывали обратно пропорциональны степени её русскости. Кем был Горький «романтического периода»? Модным салонным рупором тогдашнего белоленточничества. Кто там у нас ещё?
КлассикиXIXвека проходили романтизм в ученические периоды подражательства европейской литературе, а затем как-то враз, безнадёжно, как ребёнок ненадёванные ещё босоножки, перерастали его. Логика натуры (русской жизни) не позволяла на нём засиживаться. Скажем, «Капитанская дочка» - была бы романтическая повесть, будь она о Пугачёве. Да только она вышла о Гринёве: изначально второстепенный, подводящий к главному персонаж и оказался главным. Сопутствующая ему коллизия «делать нечего, плюнь да поцелуй ручку» оказалась интереснее и важнее калмыцкой сказки о радикальном орле и консервативном вороне.
Кто-то, кажется, Карен Степанян, остроумно заметил, что ответ на сакраментальный вопрос Чернышевского «Что делать?» загодя был дан Пушкиным именно в «Капитанской дочке»: «Делать нечего». Ясно, что Карен (да ещё Степанян) не может не лгать, не клеветать и не русофобствовать, да только тут-то он удивительнейшим образом оказался прав.
«Делать нечего» говорят не когда бездельничают, а именно когда что-то делают. Но – делают что надо, а не что хочется. Делают, что положено. То, что обычно делают в таких случаях, а не то, что ты сам оригинально придумал.
Чернышевский тоже был салонным писателем и тоже, кстати говоря, белоленточником. Белоленточники разных эпох мало отличаются друг от друга, тогдашние демократы-народники мало чем отличаются от нынешних либералов-рыночников: все они часть той силы, что вечно стремится к добру и неукоснительно достигает зла. Очень интересно их среду описала Елизавета Водовозова во втором томе мемуаров «На заре жизни». Описала вполне сочувственно, но тем поразительнее эффект. Приведу лишь пару анекдотов из книги.
Самыми угнетёнными во времена Чернышевского, как известно, считались женщины. Авангардом же передового класса были, соответственно, проститутки. И вот народники выкупили из борделя двух проституток, отправили их в швейную мастерскую, устроенную по заветам Николая Гавриловича, - спасли. А барышни спасения не хотят. Маются, работают плохо, развязным поведением отпугивают заказчиц, в общем, мастерская прогорела. Все работницы оказались на улице. Одну из проституток позже видели в театре: довольна жизнью и роскошно одета, нашла богатого содержателя. О судьбе остальных работниц ничего не известно.
А вот другая история. Увлекшийся народническими идеями помещик женился на крестьянке. Он полагал, что тем самым начинает новую жизнь. А она-то думала, что она начинает!.. Когда муж отдал свой барский дом под народную больницу, а для себя принялся строить избу, жена и её родственники, мягко говоря, были шокированы. Кончилось у них это дело плохо.
Ясно, что никаких уроков из подобных случаев не извлекалось: правильная идея – всё, жалкая реальность – ничто. Как и нынешних либералов, тогдашних борцов за эмансипацию человека отличали ощущение своей избранности, нетерпимость к инакомыслию и сектантское чувство локтя, сопровождаемое совестливыми коллективными травлями колеблющихся и вероотступников.
Решительные люди были, короче.
И что характерно: у их оппонентов – консерваторов, охранителей, почвенников, деревенщиков каких-нибудь никогда так не выходило. А выходило как-то уныло, постно, без задора, без искорки. Встречались, конечно, и среди них яркие фигуры, вот хотя бы тот же Достоевский, или Розанов, или Шукшин, но почему-то в кулак они не собирались, модного «течения» не образовывали. Есть у меня гипотеза – почему.
Дело в том, что верные идеи никогда не овладевают массами. Нечем в верной идее увлечься: истина пустоглаза, правильное наблюдение сливается с местностью – идея получается не броская, не красивая, никакая. Нет подкормки для искушения. А идея, овладевающая массами, должна быть искусительной. Должна быть понятной (поверхностной) и красивой (ошибочной).
Не случайно из серьёзных художников «трендовым» стал только Лев Толстой – именно благодаря тому, в чём он упрямо и воинственно заблуждался, чему не было подтверждения в его искусстве (и он решил поэтому от искусства отречься), что привело его в конце концов к личной трагедии.
(Это, кстати, не про Льва Толстого заголовок статьи, а про сценариста Андрея Графова, который про свободу сказал. А фотография Толстого, потому что не удалось отыскать фотографии Графова, на которой бы он играл в городки.)
Правда существует не для того, чтобы противостоять лжи; правда вообще «не об этом» (во всяком случае, уж точно не о противостоянии лжи). Поэтому отпор модным трендам возможен не в виде «правды», а в виде реакции - антилжи. Антитезой либерализму и социализму был не консерватизм, а черносотенство – другая завиральная идея, другое коллективное помрачение. Клин – клином.
Консерватизм увлечь не может, если только не придать ему карикатурных черт, не превратить в какой-нибудь модный «духless». Или не извратить до полной противоположности (как «консервативная революция», которой одно время наряду с сатанизмом увлекались наши последние советские западники в лице Дугина и Миши Вербицкого).
Консерватизмом нельзя увлечься, как можно увлечься культом справедливости, честности, здоровья и молодости. Его нельзя натренировать. Он может только прийти сам, когда не звали. Как старость. Даже и во время физкультурных занятий.
Итак, «делать нечего» означает просто-напросто, что правду невозможно «делать». (Ей даже следовать затруднительно: где твои утлые персональные воля-и-представление – и где правда.) Делать приходится другое: что-то будничное, неброское, варить варенье и пить с ним чай, чистить зубы и идти на работу.
Вот это «делатьнечегоделанье» – назови его хоть христианским смирением, хоть проклятым русским долготерпением, хоть «скромным каждодневным подвигом» – и заменяло романтизм русским писателям, даже тем, которые любили рассуждать о свободе.
Свобода – это очень просто, по-моему. Даже странно, что люди столь разнообразными способами ухитряются неправильно понимать её.
Свобода – это не противоположность необходимости. Необходимость – делание. А свобода – благоприятное условие для него. То есть делать то, что делать необходимо, можно и без свободы, это не возбраняется, – возбраняется не делать. Просто со свободой это получается лучше и легче.
Например. Вот живу я, и кто-то постоянно принимает за меня решения. До меня эти решения доходят в виде команд: ступай туда, сюда, сделай то, это. Живу я так год, два, и постепенно со мной происходит вот какая штука: я уже не в состоянии что-либо предпринять без команды. Понимаю, что и когда надо делать, но без команды меня охватывает дрёма, апатия… состояние компьютера «Ожидание». Привитый мне условный рефлекс становится сильнее естественного: слюна у меня теперь выделяется не на запах пищи, а на свет лампочки.
Я осознаю необходимость, я делаю всё что требуется, причём, в полном согласии с теми, кто требует… а счастья нет. Будто через силу живёшь. Будто совершаешь скромный, мать его, каждодневный подвиг. Но если я совершаю подвиг, где моя святость, блин?! Её тоже нет. Ничего нет. Тупое ожидание дембеля.
А теперь представим, что командовать некому, и что только от меня зависит, будет дело сделано или нет. Привыкнуть к этой мысли непросто. Первое, что я сделаю, почуяв свободу, – забью на всё, куплю сигарет, телевизор, пива и к нему колбасы. А когда станет мне от этого совсем худо, – либо снова найду себе хозяина, либо… почувствую, что начали вдруг восстанавливаться естественные рефлексы.
Это когда делаешь всё то, что тебе делать необходимо, не ощущая себя от этой необходимости несвободным. И не боясь окрика, что сделал не то, не так. И от этого делаешься такой инициативный! Такой ответственный! Такой деловой, блин!..
Правда, не сказать чтоб «такой свободный», потому что проблема свободы для тебя на этом снимается.
Свобода – это когда нет несвободы, только-то и всего. А не наоборот.
Особо счастливым от такой свободы, которая актуализируется только отсутствием, не становишься, но зато и несчастным не становишься, а это уже немало.
Это уже исключительно много.
Лев Пирогов
Источник
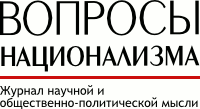





 СусовАнтон
СусовАнтон
 ГалкинаЕлена
ГалкинаЕлена
 СоловейВалерий
СоловейВалерий
 РемизовМихаил
РемизовМихаил
 ХолмогороваНаталия
ХолмогороваНаталия
 БрусиловскийМаксим
БрусиловскийМаксим
 ШалимоваНадежда
ШалимоваНадежда
 СвятенковПавел
СвятенковПавел
 КильдюшовОлег
КильдюшовОлег
 ШафаревичИгорь
ШафаревичИгорь


