- 28.11.2018 Готовится к печати 31 номер журнала "Вопросы национализма"...
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 30 "Вопросов национализма" - Столетие русской катастрофы....
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 29 "Вопросов национализма" - РУССКАЯ НАЦИЯ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ...
- 29.11.2016 Вышел в свет Вышел в свет и уже продаётся в "Фаланстере" № 27 "Вопросов Национализма". ...
- 09.09.2014 Подписан в печать № 19 "Вопросов национализма"
- 08.07.2014 Поступил в продажу журнал № 18 "Вопросы национализма"
- 14.04.2014 17-й номер журнала "Вопросы национализма"
- 27.11.2013 Подписан в печать № 16 "Вопросов национализма"
- 19.11.2013 Доступна электронная версия ВН №15
- 25.09.2013 33 вопроса к Национально-демократической партии Германии...
Сергей Сергеев: Рождение русского национализма
О Первой Отечественной войны в этом юбилейном для неё году вероятно напишут и скажут много. Но вряд ли будет широко обсуждаться главное содержание этого эпохального исторического события – рождение русского национализма, ибо последний, как известно, в путинской РФ находится под негласным (да и гласным тоже) запретом. Единственные, кто могут поднять эту тему и не дать её утопить в грядущей официозной патоке, -- сами русские националисты. Слава богу, они уже начали этим заниматься. Недавно, скажем, появилась отличная статья Александра Храмова (http://www.russ.ru/pole/Ura-russkie!-nacionalizm-1812-goda), которую можно считать отправной точкой для дальнейшего обсуждения вопроса.
Нам важно понять, что «гроза двенадцатого года» стала повивальной бабкой русского национализма не только (и не столько) потому, что русские покрыли себя тогда неувядаемой воинской славой, что Россия одержала победу над несокрушимой доселе наполеоновской Францией, что после этой победы она стала одним из бесспорных лидеров «концерта» великих европейских держав…
Всё это так, однако, куда важнее другое: в 1812 г. произошло не только теоретическое, но и практическое открытие русской дворянской элитой категории нации как сообщества всех русских людей вне зависимости от сословной принадлежности. До этого, в 18 в. типично было (например, в текстах Д.И. Фонвизина) понимание нации лишь как корпорации русского дворянства. Разумеется, формально никто не отрицал, что крестьяне – тоже русские люди, но социокультурная пропасть между «благородными» и «подлыми» была столь глубокой, что первые видеть в последних сограждан, а не объект эксплуатации (или, напротив, жалости) органически не могли.
И до 12 года романовская Россия вела немало славных и даже блистательных войн, но не одна из них не была национальной в точном смысле слова, т.е. общенародной. Во-первых, ни разу неприятель не вторгался в само сердце империи, ни разу не топтал собственно великорусскую землю и уж тем более не овладевал её древней столицей, с которой были связаны не только исторические традиции и предания, но и практические интересы влиятельнейших дворянских семейств. Во-вторых, ранее единственным актором были «благородные», «подлый народ» выступал лишь как безгласный поставщик пушечного мяса, теперь же у него появился шанс выступить в качестве самостоятельного исторического субъекта, от его позиции, по сути, зависело всё.
12 год принципиально отличался от предыдущих войн империи. Он стал подлинным катарсическим переживанием для русских дворян, которые впервые ощутили своих противников на войне какэкзистенциальных врагов, причем это были французы — прежние кумиры, теперь покушавшиеся на самое важное в жизни каждого русского дворянина. Это прекрасно схвачено у Толстого в известных словах Андрея Болконского в разговоре с Пьером перед Бородинской битвой:
«Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моим понятиям».
А вот фрагменты из подлинных писем поэта К.Н. Батюшкова, бывшего до той поры восторженным «галломаном»:
«Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук, всё осквернено шайкою варваров! ... Мщения, мщения! Варвары, Вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что подражали им как обезьяны! … Зла много, потеря частных людей несчетна, целые семейства разорены, но всё ещё не потеряно: у нас есть миллионы людей и железо. Никто не желает мира. Все желают войны, истребления врагов».
Но ещё важнее другая гамма дворянских эмоций: изначальный страх перед возможной «пугачевской» реакцией крепостных на гипотетическую отмену Наполеоном крепостного права (слухи об этом ходили упорные, и сам французский император всерьёз на сей счёт размышлял), сменившийся затем восхищением «дубиной народной войны». Это переживание приводило к вполне практическим выводам: нация – это не только «благородные», это, прежде всего, «подлые», с которыми надо искать взаимопонимание, как в социальной, так и в культурной сферах.
Знаменитый партизан Д.В. Давыдов, озадаченный тем, что крестьяне нападают на бойцов его отряда, стал разбираться в этой ситуации и выяснил, что первые принимают вторых за французов – форма-то почти одинаковая, да и говорят не по «народному». Тогда он принял такое воистину культурно-политическое решение:
«…я на опыте узнал, что в Народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным».
Русское дворянство, разумеется, и раньше было пламенно патриотично, но под влиянием событий 1812 г. дворянский патриотизм радикально трансформировался, обрел новое качество. Во всяком случае, среди дворянской молодёжи, из которой в дальнейшем вышли первые русские политические националисты, провозгласившие, что нация – это сообщество равноправных сограждан, объединённых одной культурой, а не общество сословного неравенства и культурной сегрегации. Я говорю о декабристах. Не случайно более ста будущих декабристов – участники Отечественной войны, из них 65 – сражались с французами на Бородинском поле. Сражаясь с врагами за своё кровное плечом к плечу со своими крепостными, впервые разделявшими чувства господ в полной мере, они ощутили себя подлинными хозяевами страны.
М.И. Муравьев-Апостол относил зарождение декабризма к одному из эпизодов войны, когда находившиеся в Тарутинском лагере молодые офицеры лейб-гвардии Семеновского полка (среди коих - сам Матвей Иванович, его старший брат Сергей, И.Д. Якушкин), отреагировали на слухи о возможном заключении мира с Наполеона следующим образом: «мы дали друг другу слово, … что, не взирая на заключение мира, мы будем продолжать истреблять врага всеми нам возможными средствами».
Таким образом, будущие члены Тайного общества уже тогда были готовы пойти на прямое неповиновение верховной власти во имя интересов государства, истинными выразителями которых они себя ощущали. Служение Отечеству перестало быть для них синонимом служению монарху, их патриотизм - уже не династический, а националистический, патриотизм граждан, а не верноподданных.
С.Г. Волконский вспоминал, как после наполеоновских войн произошли кардинальные изменения в его сознании: «Зародыш обязанностей гражданина сильно уже начал выказываться в моих мыслях, чувствах, и на место слепого повиновения, отсутствия всякой самостоятельности в оных вродилось невольно от того, чему я был свидетелем в народных событиях в 1814 и 15 годах, что гражданину есть обязанности отечественные, идущие, по крайней мере, наряду с верноподданническими».
Переход от «народной войны» против «тирании», навязываемой извне, к борьбе против «тирании», навязываемой изнутри, казался совершенно естественным: «Неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, русские спасшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении Отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе?» (М.П. Бестужев-Рюмин).
Последний вопрос сегодня стоит для русских как никогда актуально. И священная память о победе над «нашествием двунадесяти языков» важна для нас, в первую очередь, именно поэтому.
Сергей Сергеев
Источник
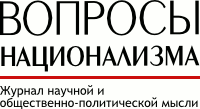





 СевастьяновАлександр
СевастьяновАлександр
 ЕлисеевАлександр
ЕлисеевАлександр
 ХрамовАлександр
ХрамовАлександр
 СусовАнтон
СусовАнтон
 КрыловКонстантин
КрыловКонстантин
 БрусиловскийМаксим
БрусиловскийМаксим
 КильдюшовОлег
КильдюшовОлег
 ШалимоваНадежда
ШалимоваНадежда
 СошинЮрий
СошинЮрий
 ГалкинаЕлена
ГалкинаЕлена


