- 28.11.2018 Готовится к печати 31 номер журнала "Вопросы национализма"...
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 30 "Вопросов национализма" - Столетие русской катастрофы....
- 25.04.2018 ГЛАВНАЯ ТЕМА № 29 "Вопросов национализма" - РУССКАЯ НАЦИЯ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ...
- 29.11.2016 Вышел в свет Вышел в свет и уже продаётся в "Фаланстере" № 27 "Вопросов Национализма". ...
- 09.09.2014 Подписан в печать № 19 "Вопросов национализма"
- 08.07.2014 Поступил в продажу журнал № 18 "Вопросы национализма"
- 14.04.2014 17-й номер журнала "Вопросы национализма"
- 27.11.2013 Подписан в печать № 16 "Вопросов национализма"
- 19.11.2013 Доступна электронная версия ВН №15
- 25.09.2013 33 вопроса к Национально-демократической партии Германии...
Александр Храмов. «Два народа в одной стране»
Прослеживая историю русской мысли, мы сталкиваемся с парадоксальным фактом: многие идеи, важные для нашего национального самопонимания, часто вынашивались за рубежом, проговаривались эмигрантами, а то и вовсе иностранцами. Например, Гоголь писал «Мертвые души» в итальянских кафе. Герцен рассуждал о самобытности русского народа в Лондоне. А первооткрывателем русской крестьянской общиной, так вдохновлявшей славянофилов, народников и имперских чиновников, был прусский ученый Август фон Гакстгаузен. В 1847 году вышло трехтомное издание его путевых записок на немецком и французском языках, и только 20 лет спустя появился их сокращенный русский перевод.
Книга историка и филолога Александра Эткинда, в которой речь идет о Гоголе, Лескове, народниках, крестьянской общине и многих других чисто русских феноменах, вполне соответствует этой парадоксальной традиции. Изначально «Внутренняя колонизация» была опубликована на английском языке (Эткинд - профессор Кембриджского университета), и лишь сейчас вышел ее русский перевод. В чем-то спорная (а могут ли вообще интересные концепции быть бесспорными?), эта книга заставляет по-новому взглянуть на хорошо известные и подзабытые факты нашего прошлого.
Какая связь есть между торговцами пушниной и Грибоедовым, которые соседствуют на страницах «Внутренней колонизации»? В погоне за собольим мехом русские первопроходцы дошли до Аляски. В результате под контролем российского государства оказались бескрайние неосвоенные пространства, которые приходилось колонизировать вновь и вновь. Как писал Василий Ключевский, «история России есть история страны, которая колонизуется». На освоение и покорение имперской периферии приходилось тратить колоссальные ресурсы, которые выкачивались из внутренней России. Окраины оказались в привилегированном положении, а у руля государства встала европеизированная элита, отчужденная от номинальных хозяев империи - русского большинства.
Автор цитирует мрачноватые заметки Грибоедова, побывавшего на сельском празднике: «финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство, становятся выше нас, а народ единокровный разрознен с нами, и навеки! Иностранец бы заключил, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен». Одно племя эксплуатирует другое: что это, если не колониализм? Колониальные методы управления вовсю применялись к русскому центру, и зачастую он страдал от этого сильнее, чем периферийные регионы. Эткинд приводит много примеров такого обратного имперского градиента: «за долгую историю крепостного права крестьяне внутренних губерний были порабощены раньше и в гораздо больших пропорциях, чем крестьяне имперской периферии, и освобождены они были позже. Практика закрепощения была вполне в русле невысказанной, и, несомненно, русофобской идеи, что только православные русские подходят на роль крепостных».
Положение русских интеллектуалов в ситуации внутреннего колониализма было двойственным. С одной стороны, они пытались говорить от лица угнетенных и разоблачать колониальную действительность. Фаддей Булгарин в 1836 году возмущался, что гоголевском «Ревизоре» события в Центральной России представлены так, как будто они происходят «на Сандвичевых островах, во времена капитана Кука». С другой стороны, как подчеркивает Эткинд, интеллектуалы не брезговали чиновничьей службой и по социальному статусу и менталитету были гораздо ближе к правящей элите.
И даже когда русская интеллигенция в лице народников пыталась вести борьбу с имперским порядком, она экзотизировала тех, кого хотела освободить. Отсюда увлечение общинностью, радикальными сектами и особым, неевропейским путем развития: «народники преувеличивали культурную дистанцию между собой и крестьянами именно в тех случаях, когда хотели эту дистанцию преодолеть». Перед такой же дилеммой стояла и европеизированная туземная интеллигенция в странах Третьего мира. Взращенная колонизаторами и лишенная корней, она мучительно пыталась найти общий язык с угнетенными соплеменниками.
Конечно, культурный разрыв между низшими и высшими классами был характерен не только для Российской империи и колониальных режимов, но и для большинства европейских стран. Однако в ходе строительства национальных государств привилегии, считавшиеся эксклюзивным достоянием высших сословий, постепенно были распространены на всех граждан. Русские же из-за перипетий своей истории так и не стали единой нацией, единым политическим организмом, который сам определяет свою судьбу. Вот почему постколониальное прочтение русской литературы и истории, предложенное Эткиндом, звучит так актуально.
Недавно писатель Михаил Шишкин с берегов Женевского озера (о, как это по-русски!) писал: «в России возникла уникальная ситуация. На одной территории образовалось две совершенно разных по духу и культуре нации, хотя и те и другие - русские и говорят на одном языке. Одна часть народа живет в провинции - многомиллионная, нищая, необразованная, спивающаяся, ментально оставшаяся в средневековье. Другая сосредоточена в двух русских столицах – образованная, с достатком, объездившая весь мир и с европейскими представлениями о демократическом устройстве общества».
Звучит так, как будто ничего и не поменялось за 200 лет, как будто мы продолжаем жить во времена Грибоедова! Вновь обсуждается навязчивое противопоставление интеллигенции («креативного класса») и народа. С легкой руки журналистов Болотная противопоставляется Поклонной - так, «Комсомольская правда» по итогам протестных митингов ругала «безнадежный либеральный клуб высоколобых очкариков» за высокомерное отношение к «быдловатому обывателю». И вот «очкарики», наслушавшись этих обвинений, пытаются преодолеть свою «оторванность» от народа, тем самым еще усугубляя ее. Читая книгу Эткинда, мы понимаем, что это уже не раз повторялось в русской истории. И есть надежда, что такое понимание поможет выбраться из колониального тупика.
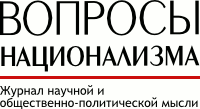





 ХолмогоровЕгор
ХолмогоровЕгор
 СошинЮрий
СошинЮрий
 ЕлисеевАлександр
ЕлисеевАлександр
 ГалкинаЕлена
ГалкинаЕлена
 ЧудиноваЕлена
ЧудиноваЕлена
 КильдюшовОлег
КильдюшовОлег
 ШафаревичИгорь
ШафаревичИгорь
 ХрамовАлександр
ХрамовАлександр
 СвятенковПавел
СвятенковПавел
 АшкеровАндрей
АшкеровАндрей


